Заканчивающаяся вечеринка — это всегда, немного, неловко. Это смущённые, конфузливые взгляды, красноречивее любых слов говорящие, что пора бы расходиться, но боязно сказать. Это ленивое, угодливое запихивание остатков угощений в набитый живот, тяжёлый и булькающий, от пива и газировки, которыми уже давишься, но не оставлять же до утра. "Давайте-давайте", — подбадривает радушный хозяин, он же старался и пакует всё по герметичным пакетам, а действо отдает душком варварства. Кто-то остаётся помыть посуду. Кто-то собирает мусор в шуршащий мешок из супермаркета. Я — ухожу.
"Прости, Паскаль", — меня хватает, чтобы обнять его, панибратски, сжав в пальцах ткань футболки, насквозь пропахшей жидкостью для протирки стёкол. На самом деле, он редко зовёт в гости, но почему бы и не в осенний день, в который, когда-то, он появился на свет?.. — "Попрощайся с братьями за меня", — наверное, это не слишком вежливо, но он поймёт. Кто, если не старший Кьюриос, так целостно понимающий мои постыдные пристрастия и неумолимую тягу к звёздам?
Он улыбается.
Как будто... знает?..
Мы проводим вместе так много: часы, дни, сменяющиеся друг за другом недели, взахлёб обсуждая космические тела и раскладывая, на крыше дома на улице Тайной, карты звёздного неба. Наше время состоит из мерцающих созвездий, причудливых названий кратеров и пустыни, над простором которой, колышется ночная тьма. Всё. Мы были бы чудесной парой, увлечённой и заряженной обоюдным, полубезумным магнетизмом естествоиспытателей, если бы не страсть, разделённая на души обоих. Мы ждём. Ждём — наших инопланетных проводников, абдукции в дни противостояния, справедливой платы за бессонницу и проклятье, магнитом тянущее к телескопу.
"Пусть он заберёт тебя", — говорит он, вместо пожелания добраться в здравии, — "И ты не вернёшься сюда. Никогда".
Никогда. Мне остаётся послевкусие горечи, раскрывающееся в десятках оттенках резанувшего слух слова. Я всё ещё здесь. Иду, босиком, по песчаной позёмке, бесчувственно выбрасывая порванные туфли в урну у дома Кьюриосов. Даже глубокой осенью, в Стренджтауне — невыносимый зной, обваривающий жухлую траву в центральном парке, бьющий по носу душным ароматов зацветших суккулентов. Они, продирающие корнями суглинок, увивают всё вокруг, там, где я прячусь от чужих глаз, чиркая последней спичкой для нестрелянной сигареты.
- Не боитесь гулять одна? — в моё славное одиночество врывается голос, обычный, для мальчишки едва перешагнувшего за совершеннолетие, и достаточно дефективный, чтобы распознать его обладателя.
"Кого, тебя?" — хочется спросить, но я осекаюсь, периферическим зрением отмечая неестественную, анилиновую кожу. В нём уже за шесть футов роста, перемежающихся с подростковой самоуверенностью, и мне не хочется спорить. Не комфортно, разве что, от собственного вида, чересчур нарядного для сумеречных прогулок, странного в отсутствии обуви и наличии золотых блёсток от конфетти, усыпавших тело.
- А ты почему шляешься? — я усмехаюсь. Я слегка пьяна, но не "навеселе", от меня здорово тянет алкоголем и в этом, пожалуй, некоторая незавидность моего положения. Но он — он ведь, просто, соседский парнишка, привычный Джонни Смит, которого я вижу, почти каждое утро, на крыльце дома напротив, выглядывая из окна, пока попиваю кофе.
Меня напрягает, слегка, внезапная компания, но он смущённо выдыхает —
я знаю эту эмоцию — и его несуразная детскость портит пряную нотку неразвившейся тревоги.
- Да, так... — ему тяжело мяться долго, в жажде выпалить, пожаловаться, — Повздорил с мамой.
- Иди к Кьюриосам, — моё предложение повисает в воздухе, снова добавляя с лихвой неловкости, разбиваясь о его отстранившийся взгляд. Я — ох, уж — могла бы и догадаться, к а к смотрит на него Паскаль. Как и любой учёный, впрочем, одержимый внеземными цивилизациями, — Разве, родной дядя тебе навредит?.. Ему бы не помешала, сейчас, пара лишних рук.
- Вы, наверное, плохо знаете Паскаля, — Джонни жмёт плечами, цепляясь за мысль, единственную, оправдывающую меня. Но я знаю, — уверена, — плевать бы он хотел, что на пороге дома нарисовался родной племянник, так рьяно оберегаемый матерью от всего, хоть как-то касающегося астрономии, плевал бы — пусть бы приблизиться к тайне гибридизации, бесцеремонно запуская пальцы, как единственный шанс изучить, досконально, мутировавшее дитя собственной сестры и пронаблюдать физиологические процессы, чуждые человеческому организму. Это стал бы ад — ад, полный мазков проб, соскобов и царствующего зонда, подсознательной местью бредящего учёного, за тысячи изувеченных людей, пришельцам. Только, вместо захватчиков, мальчишка, никогда не покидавший пределы Стренджтауна.
Куда ему?.. Он навеки заперт в чертогах проблем с социализацией и травле. Я не подчёркиваю разницы, но и не приукрашаю, признаю, я — такая же, как Паскаль. Анализ превращается в фоновый процесс, мне достаточно и секунды, чтобы заметить: белявые волосы, в модном беспорядке, кажется, точь-в-точь, как у людей, а на носу и щеках рыжеватый, коррозионный налёт, граничащий с кожным раздражением, обветренный совсем чуть-чуть. На его скулах и щеках зияют тёмные пятна, переходящие на шею, — похоже на диатез, — ведь как знать, какие из потребностей в минералах он унаследовал от отца. И сочетаются ли они, вообще, с человеческим геномом.
- Я знаю, о чём Вы думаете, — ему, кажется, ужасно хочется поболтать. Не повезло родиться экстравертом, отвергаемым обществом, любым, к которому он тянется, — Уж лучше Вы будете меня изучать, чем дядя, — он снимает с плеча белую нитку, опавшую с головы, протягивает мне. Наивный, как и любой подросток. Я кажусь ему безобидней, я — не крепкий, смуглый мужчина, вроде Паскаля, я женщина, пониже ростом, но ему невдомёк, что транквилизаторы уравнивают любые шансы между нескладными юношами и учёными, привыкшими к лабораторной тишине.
Но эйфорическая возможность — вот, что сводит с ума.
- Как дела у Офелии? — я меняю тему разговора, вовремя вспоминая о его девчонке, и демонстративно отмахиваюсь от его ладони, — Укради её на ночное свидание.
Всё лучше, чем проводить предутренние часы с малознакомыми взрослыми.
- А, нет... — в его словах сквозит безысходность, въедливое чувство человека, у которого нет выбора, — Она с Риппом гуляет.
- Грантом?.. — почти неудивительная находка для девушки, мечтающей об обычной семье. Рипп — нормальный. Разве что, халатно относящийся к своей репутации в пределах маленького городка. О его похождениях, наверное, неизвестно только собакам, — Так, он же?..
- Да, — Джонни обрывает мой вопрос, — Он без странностей.
- Думаешь? Ты знаешь, в Стренджтауне, хоть одного человека без странностей?
- Нет, — он смеётся, несмотря на затянувший, неприятный разговор, — Выходит, что нет.
- Я переночую у Вас?..
Слова выбивают меня из колеи, выбивают дыхание, открывающейся перспективой: вот он, шанс похвастаться перед Кьюриосом, обогнать на шаг, вот он, научный прорыв, возможность отрезать прядь волос и надругаться над спящим, используя только пробирку и пинцет. Я думаю — и устыжаюсь под внимательным наблюдением Смита. Так, будто он способен читать мысли.
- Только, не делайте мне больно, — его обречённость, субстратная, встряхивает меня. Я рисую картинки своего дома, заваленного печатными статьями по уфологии, с загрустившим, спрятанным от жары телескопом, томящимся в тёмном углу, и мне противно. Мысли скрипят, как старый транзистор, перемешиваясь с запахом песка и горячих листьев. "Беги прочь", — так хочется крикнуть, отталкивая его, не понимая, до конца, тягу глупца к тем, кто способен его уничтожить. Мне скверно осознавать разумное существо экспонатом, объектом, — а его, неумолимо, стремит кверху, к далёким звёздам, помешательство на которых достигает апогея посреди полумёртвой пустыни, — Дадите посмотреть в телескоп?
Этот вопрос. Главный вопрос.
- Не сегодня, — звуки с трудом извлекаются из пересохшего рта, а я всё продолжаю цепляться за возможность, так по-идиотски и эгоцентрично, — Давай, в другой раз. Но ты можешь остаться, если хочешь.
Его влажные, от пота, пальцы касаются моего голого плеча, на долю секунды, прошибающую электрическим разрядом. От него мягко пахнет рыбой и морепродуктами, совсем слегка, но достаточно, чтобы я уловила этот странный, нетипичный для местности запах, на грани с неприятным.
- Не надо меня трогать, — я отстраняюсь, встаю с деревянной лавки, чувствуя непомерную утомлённость, — И я не буду трогать тебя. Нам лучше пойти, всё равно, в одну сторону.
- Хорошо, извините, — Смит мямлит, что-то уже решивший для себя, — Я не хотел.
Я оставляю ему возможность выбирать, то, чего не сделал бы Паскаль — надо же, какое ушлое благородство — и не утверждаю, что он должен войти в мою дверь, если передумал.
В тёплом воздухе, пронизанном треском надрывающихся сверчков, в далёком гуле выезжающих на трассу автобусов, все чувства отравляет разлитое иммерсионное масло.
 Забыла про этот саунд.
Забыла про этот саунд. Спасибо. Вообще-то, это очень приятно.
Спасибо. Вообще-то, это очень приятно.




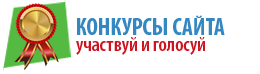
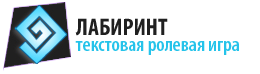

 или куда более близкорасположенные что-то подгадили?
или куда более близкорасположенные что-то подгадили? Почему бы, типа, и да...
Почему бы, типа, и да... От оно чё... от чё...
От оно чё... от чё... Мы ждём.
Мы ждём.
 Я ж самый хорошенький выбрала, чтобы
Я ж самый хорошенький выбрала, чтобы 








